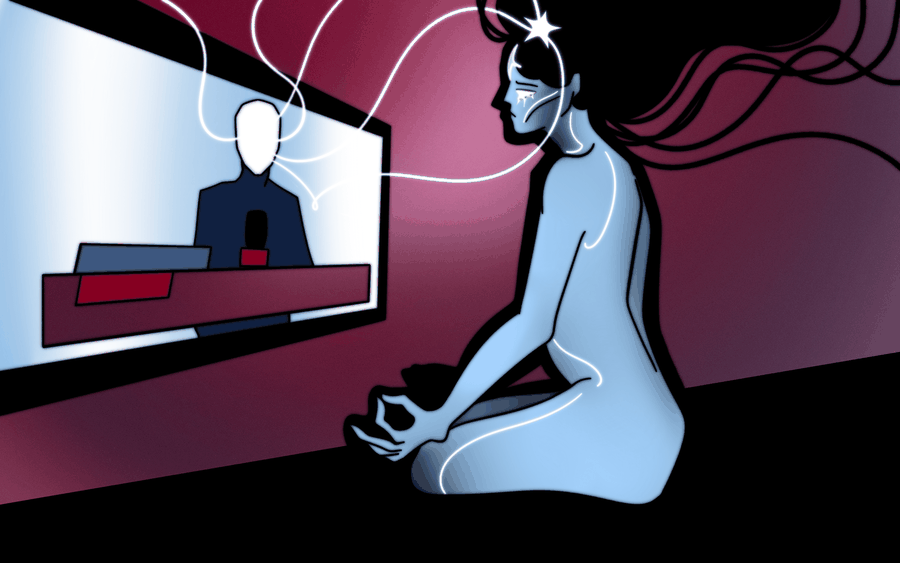Спрос на психологов в России вырос в 2,3 раза за последние четыре года. Значимым фактором роста исследователи считают последствия политических решений, принимаемых высшим руководством страны. Этот контекст ставит новую острую и малоизученную проблему — каким образом различия во взглядах сказываются на процессе и результатах терапии.
Влияют ли различия политической позиции психотерапевта и клиента на успех психотерапии, и если да — то какой ценой? Как терапия может изменить политическое поведение клиента? Способны ли рекомендации «принять мир таким, какой он есть» и «не можешь изменить ситуацию — измени себя» подавить политическую волю, снизить желание менять социальную реальность, заставляя человека концентрироваться исключительно на личных проблемах и отказаться от публичного, ограничившись частным? Способствуют ли психотерапевты и транслируемые ими установки поддержанию существующего политического порядка, выступая если не сторожевыми псами режима, то его emotional support animals?
Власть и психотерапия в постмодернистской оптике
Прежде всего, нам нужно договориться, где появляется власть в контексте психотерапии. Если действовать с точки зрения практикующего постмодерниста, то мы легко обнаружим, что властные отношения, предполагающие отношения подчинения («я говорю, а ты — делаешь»), можно найти в любом дискурсе — в том числе в случае с психотерапией. Затем, легко ухватившись за терапию как врачебное, медикалистское действие, мы с азартом разворачиваем фукольдианскую оптику во всей своей красе и пристально разглядываем предмет интереса. Все отношения терапевта и клиента, а также терапевта и прочих социальных и экономических (а значит — политических по определению) систем тут же объявляем завязанными на власти, и единственно правильным решением будет немедленно начать эту систему деконструировать. Описание опыта деконструкции и инструкции к тому, как это делать правильно, можно почерпнуть из архива журнала «Психотерапия и политика» («Psychotherapy and Politics International»), чья цель — исследование связей и взаимодействие политики и психотерапии как в теории, так и на практике. Основное внимание уделяется применению идей, зародившихся в психотерапии, к политической проблематике, а также использованию политических концепций и ценностей в области психотерапии на международном уровне. Несмотря на декларируемое принятие широкого политического спектра и всех школ психотерапии, в журнале определенно наблюдается дефицит консервативной идеологии, а преимущественно затрагиваются темы леволиберальной повестки. Примечательны описание опыта работы феминистской психотерапевтической клиники в Мексике, теоретические основы применения концепции социальной справедливости в психотерапии по отношению к лицам, живущим с ВИЧ, а также дискуссия по вопросу о возможностях успешного совмещения работы психотерапевта и секс-работницы в условиях превосходства, привилегий и шейминга со стороны профсообществ (и я не шучу сейчас — прим. автора). Тем же, для кого чтение и перевод академических источников затруднительны, могу посоветовать снятый на основе реальных событий сериал «Психиатр по соседству» (The Shrink Next Door), где тема личного влияния психотерапевта на принятие решений пациентом и извлечение из этого выгод для себя раскрывается в полной мере.
Второй подход более традиционен, следование ему, с одной стороны, избавляет нас от необходимости погружаться в увлекательный постмодернистский мир вербальных и не только микроагрессий, с другой стороны, открывает необходимость анализа практик соотнесения сферы политического и сферы психологического в повседневности. Для начала нам нужно понять, что такое психотерапевтическая диада.
Психотерапевтическая диада и политический активизм
Диада в психотерапии — это связь, которая возникает между терапевтом и его клиентом, предполагающая создание специально созданного, доверительного и безопасного пространства. Цель создания диады — это расширение внутренней свободы клиента для того, чтобы он мог функционировать более адаптивно и полноценно. Это не коррекция, не приведение к некой норме, а понимание того, как может поступать человек в той или иной ситуации, насколько он умеет управлять собой. Для этого необходима совместная работа, где участвуют как пациент, так и терапевт. Задача терапевта здесь — используя знания и техники, помогать пациенту исследовать его внутренний мир, чувства, бессознательные конфликты, автоматические реакции и паттерны поведения. Задача же пациента — в какой-то степени подчиниться терапевту. Дело в том, что пациент, доверяя терапевту, его авторитету и руководству, делегирует ему власть над процессом самопознания. В норме терапевт стремится к минимизации злоупотребления этой властью, фокусируясь на усилении автономии и агентности пациента.
Что усиление автономности и агентности подразумевает в рамках процесса терапии и самопознания? Здесь предметом могут быть сразу несколько явлений.
Прежде всего, пациент исследует эмоциональные реакции и учится их регулировать. Он учится управлять такими базовыми чувствами как страх, гнев, энтузиазм, в том числе, возникающие по поводу общественных и политических событий, реакций на социальную несправедливость, реакций на взаимодействие с властными структурами. В терапии пациент дифференцирует эти чувства, понимает истоки их возникновения, а также находит более осознанные и эффективные способы их выражения. Здесь-то, на понятии «эффективность», и открываются нюансы, возникновение которых предопределено существованием различных направлений в психотерапии.
Например, с точки зрения психоаналитиков, построение эффективного выражения чувств строится на осознании истинного источника чувства: не выплескивать гнев на несправедливого чиновника, а понять, связано ли его возникновение только с текущей ситуацией, или это реакция на более ранний опыт переживания несправедливости (например, с родительскими фигурами). Соответственно, чувство бессилия перед системой может быть связано с вытесненной детской беспомощностью. Осознание этой связи позволяет снять деструктивность защит и заменить примитивные защиты (проекцию злоупотреблений власти на всех «начальников», отрицание проблемы) на более зрелые (сублимацию гнева в организованную деятельность, юмор). В то же время, гуманистическая парадигма предполагает достижение аутентичности, поиска смысла и проживания момента «здесь и сейчас». С точки зрения гуманистов, эффективность предполагает поиск своего собственного, а не заимствованного у других способа говорить о политике и выражать свою позицию. Эффективность здесь — это подлинность и целостность переживания и действия, ощущение ответственности и аутентичности. С точки зрения системной терапии, первичны паттерны взаимодействия человека в контексте систем — семьи, общества, сообщества. Эффективность здесь завязана на том, как строить коммуникацию и тем самым достигать системных изменений. Любая терапия, вне зависимости от направления, помогает понимать и выражать политически значимые чувства таким образом, чтобы это служило человеку и его целям, а не разрушало его или его окружение.
Кроме того, в процессе терапии человек познает реактивность и паттерны поведения, выводит на свет бессознательные сценарии, которые могут определять политическую позицию или бездействие (такие как «я бессилен», «все решено за меня», «рисковать нельзя»). Понимание этих паттернов позволяет пациенту совершать более осознанный выбор — участвовать или не участвовать в политических процессах, как именно участвовать, основываясь на своих ценностях, а не на автоматических страхах или импульсах. В рамках терапии поощряются вопросы вроде «Почему я так действую?», «Что я действительно думаю или чувствую по этому поводу?». Это способствует развитию рефлексии и развитию критического мышления, что напрямую открывает возможность анализировать манипулятивные нарративы в политическом дискурсе. Наконец, действуя в диаде с психотерапевтом, человек укрепляет идентичность и собственные убеждения, а это — основа для устойчивой, подлинной и аутентичной гражданской позиции, которая меньше подвержена внешнему давлению, либо конформизму.
Успешно построенная терапевтическая диада косвенно влияет на то, как именно индивид взаимодействует со властью. Терапия, вне зависимости от парадигмы, не даёт пациенту готового решения или идеологии, однако формирует внутренние предпосылки для более осознанного, рефлексивного и ответственного политического участия (или же выбора неучастия), основанного на ясном понимании себя и своих мотивов. Высококлассный терапевт не ставит своей целью зациклить человека на постоянных самокопаниях во внутреннем мире; он помогает человеку стать автономным, «дорасти» в том смысле, что эта личность принимает собственные решения, реализуясь в различных сферах жизни, включая политическую.
Но это — в идеале. На практике не только пациент приносит в кабинет терапевта политику в виде части своей личности как реакцию на политические события, идентичность, отношения с властью, но и терапевт также не является tabula rasa. Разговор о политике может расцениваться терапевтом как подмена разговора о себе, форму защиты со стороны пациента. Кроме того, несовпадение взглядов терапевта может исказить его восприятие, привести к навязыванию опыта или стигматизации клиента. Люди несовершенны, и терапевты — не исключение. Как именно это может проявляться? Этот вопрос привлекает внимание учёных, специализирующихся на проблемах организации психотерапии.
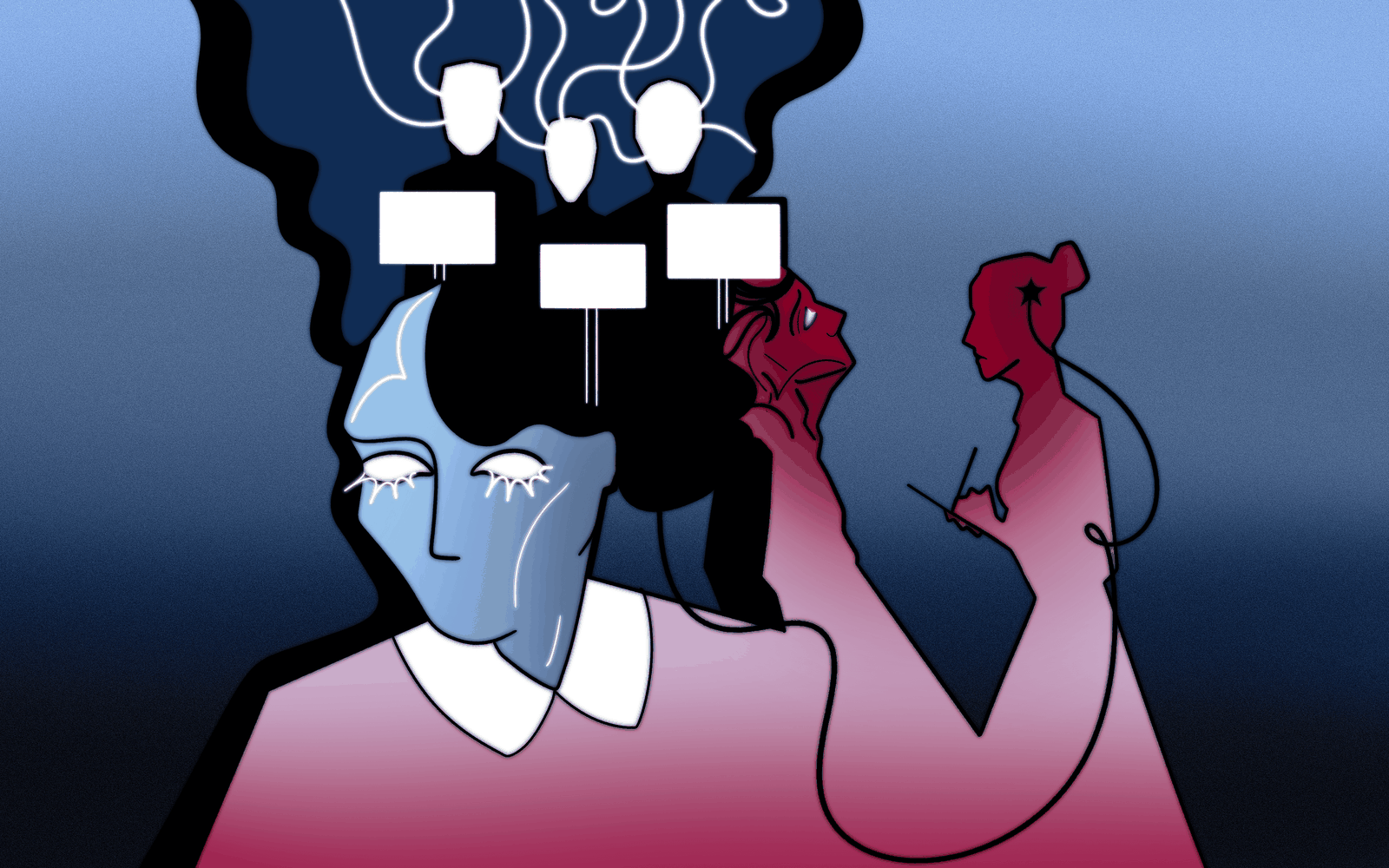
Соединенные Штаты и Великобритания
США — страна, где население включено в политику и политическое действие, а практики психотерапии распространены и представляют собой развитый рынок. Политический спектр формируют партии демократов и республиканцев, а разнообразие психотерапевтических практик способствует разнообразию возможных подходов к решению проблем клиента и повышению вероятности, что тот или иной терапевт будет иметь политические взгляды. В этих условиях логично возникновение ситуаций, когда эти взгляды будут не совпадать со взглядами клиента, либо сами события подтолкнут к тому, чтобы реакция на них воспринималась как значимая.
Победа Трампа на выборах 2016 года вызвала волну эмоциональных реакций, как у обычных граждан, так и у специалистов в области психического здоровья. В 2018 году журнал «Клиническая психология» посвятил этому специальный выпуск с названием «Clowns to the left of me, jokers to the right» (примечание: «Клоуны слева от меня, шуты — справа», строчка из песни «Stuck in the Middle with You» группы Stealers Wheel. Строчка часто используется для описания чувства подавленности или загнанности в сложную ситуацию, особенно когда окружающие кажутся иррациональными или глупыми). В предисловии к выпуску главный редактор отмечает: все статьи учитывают тот факт, что клиенты остро переживают политические события, связанные с выборами президента США в 2016 году. Они также могут приветствовать открытое обсуждение этих событий и их последствий, что способствует углублению связи между терапевтом и пациентом.
К аналогичному выводу приходят ученые Нили Соломонов и Жак Барбер. По их данным, 87% терапевтов так или иначе обсуждают со своими пациентами вопросы политики и 63% признались, что делились с пациентами своими взглядами. Что касается политических взглядов терапевтов, то из них около 63% сообщили о политической откровенности, то есть делились своими взглядами (21% — явно, 42% — неявно). Большая часть (62%) идентифицировала себя как демократы, 7% заявили о приверженности ценностям республиканской партии. Терапевты отмечают, что сходство взглядов способствует созданию доверительной атмосферы, а различие — хотя и может спровоцировать недоверие и отдалить пациента и терапевта друг от друга — всё же преодолимо.
До выборов терапевты и клиенты обсуждали широкий спектр политических тем, связанных с текущим политическим климатом, включая проблемы доверия к правительству, СМИ, образование, экологию, миграцию, социальную защиту, военные политики, права женщин и другие важные социально-политические вопросы. После выборов темы обсуждения расширялись и приобретали эмоциональную окраску, в том числе выражались опасения, страхи, разочарования по поводу исхода голосования и действий новых властей. После выборов у терапевтов и пациентов отмечалось усиление проявления негативных эмоций, таких как страх, отчаяние, злость и разочарование, а также снижение позитивных чувств, таких как надежда и доверие. Политические дискуссии становились более эмоционально насыщенными, затрагивая текущие события, политические решения и их влияние на общество. Таким образом, до выборов основные темы касались общего политического контекста и политической ситуации в целом, а после — сосредотачивались на эмоциональных реакциях и последствиях политических событий, особенно связанных с выборами и их результатами.
Как видим, американские исследователи видят в возможных различиях взглядов не только риски, но и возможности для рефлексии пациента и профессионального роста самого терапевта. К сходным выводам приходят исследователи из Великобритании Никола Фарра и Терри Хэнли. Авторы рассматривают взаимодействие терапевта с клиентом с позиции явления «культурных войн» — скорей, не жесткого концепта, а некоторого исследовательского фрейма, отражающего ощущение раскола и поляризации по различным вопросам, которое кажется людям значимым и реальным для их субъектности и идентичности. Терапевтам следует обращать на это пристальное внимание. Во-первых, проблемы культурных войн влияют на жизнь клиентов. Эти дебаты часто вращаются вокруг доступа к правам и ресурсам, часто для ущемленных групп, и неизбежно повлияют на политические решения, которые затрагивают клиентов, что формирует стрессовую ситуацию.
Во-вторых, профессионализм терапевта в эпоху «культурных войн» зависит, в том числе, и от способности «вынести за скобки» свои собственные политические взгляды и предпочтения. Авторы сетуют, что в Британии распространена «культура молчания», когда речь заходит о политических взглядах терапевта и пациента, и аргументируют точку зрения, что проблемы разговоров о политике должны быть включены в программы повышения квалификации терапевтов.
Итак, на этих примерах мы видим проявление традиционного для англо-американского мира утилитаристского отношения к проблемам: наши противоречия должны быть сглажены для достижения общей цели. В то же время, утилитаризм здесь обнаруживает себя в несколько неожиданном случае, когда не политика приходит в терапию, а терапия — в политику.
Осознанность в политике: парламентский кейс Великобритании
Именно в Великобритании на уровне парламента была реализована программа осознанности или mindfulness — это практика целенаправленного внимания к текущему моменту без оценки или реакции на происходящее. Она развивает способность осознавать свои мысли, эмоции и телесные ощущения с позиции «наблюдателя», что помогает снижать стресс и повышать эмоциональную устойчивость. В психотерапии осознанность используется как инструмент для прерывания автоматических реакций, управления тревогой и углубления самопонимания через фокус на «здесь и сейчас». В 2014 году в Парламенте Великобритании была создана парламентская группа MAPPG (Mindfulness All-Party Parliamentary Group) — межпартийная группа депутатов Палаты общин и Палаты лордов, которая работает под руководством организации The Mindfulness Initiative. Целью является проведение исследований, обсуждений и разработки рекомендаций по внедрению практик осознанности в государственную политику. В течение первого года группа провела 12-месячное исследование, включавшее восемь слушаний, которые охватывали ключевые сферы — здравоохранение, образование, уголовное правосудие и рабочая среда. Эта деятельность включала сбор информации, интервью с экспертами и обмен опытом. После исследований группа способствовала внедрению программ осознанности в различные государственные учреждения, в том числе в систему здравоохранения Великобритании, что дало больше возможностей для доступа к такой терапии.
Изначальная посылка заключалась в том, что практика осознанности способствует развитию таких психологических качеств у политиков, как внимание, импульс-контроль, эмпатия и метакогниция. Эти навыки помогают политикам лучше концентрироваться, избегать импульсивных реакций и проявлять больше сострадания, что может снизить уровень конфликта и поляризации в политической дискуссии. Во-вторых, осознанность способствует формированию культуры саморефлексии среди политиков, что делает их более устойчивыми к стрессам и эмоциональным переживаниям, характерным для их профессиональной деятельности. Это, в свою очередь, может изменить стиль принятия решений, делая его более взвешенным и ориентированным на долгосрочные интересы общества. Парламентарии приняли участие в 8-недельном курсе, который включал в себя ряд техник и практик осознанности, таких как:
— медитация и сканирование тела: политики использовали короткие медитации, сканирование тела или простые упражнения, такие как обратный счет, чтобы отвлечься от рутины встреч и дебатов;
— дыхательные упражнения и «заземление»: перед выступлениями или важными встречами участники использовали дыхательные упражнения и практики заземления, чтобы успокоиться и сосредоточиться;
— медитация дружбы (befriending meditation): эта практика, направленная на развитие дружелюбия и доброты к себе и другим, использовалась для снижения аффективной поляризации и развития чувства общей человечности среди участников;
— случайные акты доброты: Участникам предлагалось совершать случайные акты доброты, что, как сообщалось, оказывало мощное воздействие на них;
— осознавание телесных ощущений: осознавание ощущений в теле, таких как ощущения в ногах или блуждающий ум, помогало политикам осознать, что у них есть общие человеческие переживания, независимо от их политической принадлежности.
Эти техники были частью структурированных занятий, которые проводились еженедельно, а также использовались политиками в повседневной работе для управления стрессом и улучшения взаимодействия. Качественное исследование, проведенное по результатам внедрения этих практик показало ряд позитивных эффектов. В частности, проведенный 8-недельный курс показал снижение уровня эмоциональной враждебности к оппонентам на 24%. Участники отмечали способность видеть «человека за политической маской». По словам экс-депутата от Лейбористской партии Криса Руана: «Раньше я видел в консерваторах врагов. Сейчас вижу людей, которые так же устают и ошибаются». У 68% участников зафиксировано снижение уровня выгорания.
Британский эксперимент демонстрирует, что осознанность может быть не только инструментом личного развития, но и механизмом институционального смягчения политической вражды. Однако его успех зависит от ряда факторов:
— избегания «медитационного утопизма», так как осознанность не заменяет борьбу с системной несправедливостью;
— интеграции с другими формами диалога, включающими граждан;
— расширения на периферийные группы, такие как молодые политики и меньшинства.
Этот проект стал мировым прецедентом — аналогичные инициативы сейчас тестируют в парламентах Германии и Канады, используя британскую модель как эталон. Здесь мы видим, что возникающие и усиливающиеся на уровне большой политики разногласия, в дальнейшем создающие те самые барьеры в общении на уровне пациента и врача, также могут быть сглажены за счет средств психотерапии. Для стран с развитой политической культурой, сильным парламентом и стремлением к поиску компромисса это может быть полезным дополнительным инструментом формирования рационального управления. Но что делать в тех случаях, когда противоречия в обществе пролегают намного глубже, не ограничиваясь партийным противоборством? Что делать, если общество разделено по разным измерениям, а государство ведёт ожесточенный конфликт с соседним, и этот кровопролитный конфликт привлекает внимание всего мира?
Об этом как никто другой хорошо знают и могут рассказать израильтяне.
Израильский опыт
При проведении исследования о том, как терапевты говорят с пациентами о политике, Ниссим Ависар столкнулся с проблемой: из 600 разосланных израильским терапевтам опросных листов только 115 были возвращены и обработаны. Эти данные уже говорят о том, что тема представляется весьма щекотливой, раз респонденты так неохотно делятся информацией. Отмечается, что до 1990-х большинство израильских психологов сознательно избегали политических тем, считая их «непрофессиональными». Исключением стала лишь Первая интифада (1987–1993), когда психологи публично осуждали насилие и поддерживали диалог с палестинцами. Однако позже их активность снизилась, что связывают со страхом маргинализации, усталостью от конфликта и давлением со стороны консервативной части израильского общества. Анализ полученных в ходе исследования ответов позволяет автору говорить о расколе израильского психотерапевтического лагеря на две группы:
Первая группа представляет собой консервативный лагерь, к которому относится большинство респондентов. Эта группа придерживается принципа нейтральности и считает терапевтическое пространство политически стерильным. Они стремятся максимально сохранять нейтралитет и избегать обсуждения политических вопросов в терапии, полагая, что это может повредить терапевтическому процессу или привести к конфликту. Озвученные пациентами политические вопросы рассматриваются как внутрипсихические проекции или метафоры, а не как реальные социальные категории, что соответствует консервативной психодинамической концептуальной системе.
Вторая группа является меньшинством, признающим политический аспект терапии. Эта группа, хотя и составляет меньшинство, признает политическую заряженность терапевтической практики и важность учета политических аспектов в работе. Они более чувствительны к различным политическим аспектам психотерапии и выступают за работу в политически информированной и социально ответственной манере. Некоторые из них активно обсуждают политические вопросы с пациентами и считают, что их политическое мировоззрение может проявляться в терапевтических вмешательствах, что согласуется с современными концепциями (интерсубъективными, реляционными), которые позволяют терапевтам более свободно и открыто выражать свои взгляды, включая политические, как внутри, так и вне терапии. По оценкам исследователя, более половины клинических психологов избегают политических дискуссий в терапии, опасаясь навредить терапевтическому альянсу. Отмечается, что абсолютное большинство (70% опрошенных) не упоминали о том, что в процессе их профессиональной подготовки как-либо обсуждался вопрос разговоров о политике с пациентами. При этом 89% признают, что политический контекст (например, служба в армии или террористические атаки) напрямую влияет на психическое здоровье клиентов.
Нужно отметить, что работа с травмами предполагает включение не только специалистов в сфере ментального здоровья, но также совместную работу с представителями религий — ислама и иудаизма, прежде всего для того, чтобы сделать психотерапевтическую помощь доступной и лишенной стигмы. Эту задачу решает проект «Мозаика», который реализуется в Израиле после нападения ХАМАС 7 октября 2023 г. В рамках данного проекта было установлено трехстороннее сотрудничество между религиозными лидерами, представителями общин и специалистами в сфере психического здоровья, что способствовало созданию связи между службами психического здоровья и общинами, нуждающимися в помощи. Посредством обучения и вовлечения религиозных и общинных лидеров в решение вопросов психического здоровья, проект предоставляет возможность этим лидерам помочь своим общинам осознать значимость решения проблем психического здоровья и получения необходимой поддержки. С момента начала проекта более 1000 лидеров, входящих в сеть религиозных лидеров, созданную организацией «Мозаика» в мусульманских и еврейских общинах, распространяли информацию об укреплении психического здоровья и повышении жизнестойкости. При этом около 300 мусульманских и 400 еврейских религиозных, общинных и педагогических лидеров активно участвовали в учебных мероприятиях и разработке программ. На данный момент более 200 молодых мусульман и евреев получили профессиональную психиатрическую помощь, а 4000 членов мусульманских и еврейских общин приняли участие в церемониях, конференциях и службах на тему стойкости и рефлексии, которые проводились под руководством специалистов, обученных в рамках данного проекта.
Итак, мы можем заметить, что даже при наличии продолжительного постоянно существующего политического конфликта, определяющего повседневность пациента, все же находятся психотерапевты, которые до последнего будут отрицать необходимость разговоров о его социально-политической сущности. Однако нельзя сказать, что такая позиция будет жизнеспособной: необходимость проработки и обсуждения особенно остро проявляет себя, когда конфликт становится основой для возникновения травмы и следующего за ним расстройства. Это тот случай, когда обсуждение политики становится неизбежным.
Вместо заключения
В России не удалось найти исследований уровня, сопоставимого с теми, что были упомянуты в статье. Объясняется ли это относительно молодым рынком психотерапии, деполитизированностью российского общества или же отсутствием научного интереса — вопрос дискуссионный. Очевидно только то, что сама по себе психотерапия по умолчанию не отвращает человека от политического действия. Все зависит от парадигмы, в которой работает психотерапевт и от того, как он сам воспринимает свою миссию. Определённая степень свободы есть и у самого психотерапевта, вопрос в том, насколько он позволяет себе говорить об этом, а значит — и клиенту. Только от этого зависит, будет ли доверие у пациента к психотерапевту или нет, сработает ли диада или нет, будет ли чувствовать себя свободным клиент терапевта или нет.